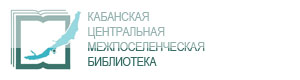(О книге К.Г. Карнышева «Чудодей»)
Труд и призвание писателя можно сравнить с работой звонаря, сколь тяжелой, столь и почитаемой издревле на Руси. Все реже слышится со страниц новомодных изданий призывно стучащееся в сердца читателей, звенящее слово. Либо затерялось оно, либо задвинулось сонмом и скрежетом иных, чуждых звуков, царапая слух и покалывая глаза.
Но сегодня наступил долгожданный праздник. Пробилась-таки, как пробивается сквозь асфальт упрямый тополиный стебелек, в нежной зелени обложки книга с таким теплым названием «Чудодей», вышедшая из-под пера настоящего чудодея слова, истинного патриота-байкальца – Константина Григорьевича Карнышева.
С первых страниц завораживает, как всегда сочное, карнышевское слово, сверкающее яркими гранями самобытного, живого русского языка. Это богатство, добытое из недр чуткой памяти и счастливо сохраненное, щедрой россыпью раскинулось по всей книге.
Все это говорит о живой, нерасторжимой связи писателя с родной байкальской землей, с ее людьми, с уходящей все дальше от нас историей. Лев Толстой однажды сказал, что люди скоро перестанут выдумывать истории, вымышлять героев, а будут писать о своей или кем-то конкретно прожитой жизни. Вот и Карнышев пишет о том, что есть ценного и полезного в кладовой его памяти, пропуская все через себя сегодняшнего, через сердце и философию собственной души.
«Чудодей» уже поэтикой своего названия интригует читателя, волнует душу и ум его глубоким, философским содержанием. Ведущей темой, проходящей через всю книгу, является, на мой взгляд, тема сострадания, человеколюбия: «Значит, кто-то еще при рождении поместил в моей груди тот чуткий ко всем бедам комочек, который заставлял меня что-то жалеть и чему-то сострадать..» («Пурга на мысе Бакланьем»). Только очень большое, очень доброе сердце может так сострадать, так неистово болеть за ближнего, само страдая и мучаясь от раздирающей горечи. Автор и его герой беспощадно казнят себя за запоздавшее чувство благодарности дорогим их сердцу людям: Так и живу с неугасающей виной перед нею. И ничто не помогает мне. («Дорога длиною в жизнь»).
Каков путь самопознания героя Карнышева? Где и как проходит его дорога длиною в жизнь? Его лирический герой, постигая себя как экзистенцию, обретает внутреннюю свободу, которая и есть выбор смысла жизни, осознание себя, своей сущности, накладывающей на него ответственность за все происходящее в этом мире. Именно таков его Кедроля из одноименной повести. Поэтика этого имени-прозвища несет в себе крепость, несгибаемую силу и надежность сибирского кедра. Он, проведший большую часть своей жизни в лагерных застенках, свободен и чист душой, лишен всякого раболепства и низкопреклонства. Мукам своим вопреки мечтал о светлом дне, который явится началом его новой жизни. Некий аллегорический смысл заключает в себе петух, о котором «тридцать годов в лагере …думал. Мысль об нем и в лагерях душу грела. Он жадно втянул в грудь воздух». Ведь человек рожден для счастья, потому должен жить в гармонии с самим собой, со всем миром и дышать полной грудью, а не мучаться и задыхаться поставленный в немыслимые условия, подобно рыбе, оставленной без воды. Петух – провозвестник нового дня, здесь совсем не случайный образ. Он как раз и олицетворяет собой надежду на пробуждение, обновление жизни. Кедроля, чудом выбравшийся из ада, не живет в обиде и в злобе, напротив, с радостью распахивает свое сердце встречному, предлагает руку помощи страждущему, смело и мужественно берет на себя ответственность в опасную минуту. Болит его душа за разоренную, заброшенную деревню, за ее людей. Не растерял этот герой в скитаниях и мытарствах человеческий стержень, кровную связь с родной землей, остался верен своей родовой памяти. Жизнеутверждающий образ Кедроли оставляет надежду людям на то, что жизнь должна измениться к лучшему… Сродни Кедроле и Стишка из повести «Чудодей», который жил по пословице: на добро и зло отвечай добром. Три раза меня уважил приискатель, к столу пригласил, позвал в старатели, мне тоже нужно его уважить. И уважил. Нехорошо с ним обошелся попутчик в ответ на его щедрость. Что-то от лермонтовского бессмертного Максима Максимыча в трогательности Стишки … Свет его души отражался в глазах: « Глаза его лучисто светились, от него исходила какая-то греющая радужность. Ему искренне жаль другого, больного попутчика, жаль женщину, «старания которой тот все отринивает, как ни старайся, ни угождай она» Любят и жалеют всех бабушки Карнышева. … И еще два конька были у бабушки Анны – любовь и жалость ко всем. Живым и мертвым… В бабушкином поминальнике более ста имен, по наследству доставшиеся ей. Считала, что забывать никого не след….
…Не след человеку терять свои корневища, жить, бездумно коротая дни, отпущенные Богом. Жить в ладу с собой, с Господом, значит, жить в ладу со всем живым и мертвым.
Верить в себя, в людей, не впадая в отчаяние, помогает героям вера в Бога. «Верую, верую в тебя, Господь Бог! На все готова. Все готова перенести, чтобы предстать перед образом твоим. Прими искупляющую молитву мою». И далее отчетливо прослеживаются библейские мотивы в «Чудодее». Вслед за бабушкой мать, Настасья Григорьевна ложилась и просыпалась с молитвой: «Отец небесный, я твое дитя, я ветвь твоя, войди в мое сердце, обереги» Она, пав на колени перед божницей просит, чтоб враг и сатана отошли от ее сына Костеньки. Дрожливым голосом уверяла Господа Бога, что носит он на устах своих Иисусово слово.
Здесь, почти в каждом произведении мы встречаем, подобные алмазам, образы чистых и одухотворенных женщин. Они выстроились в интересный образный ряд, воплотивший в себе тему женской жертвенности. Образ русской женщины в произведениях Карнышева – это жертвенница, сострадалица, мироносица и великомученица. «Только Малашкиными стараниями держалась жизнь в изувеченном, исхлестанном болезнью теле Никиты» («Маланья короткая») Вспоминается попутчица Стишки, который поражается ее терпению: «Куда везет его эта великомученица?» Вспоминает он сам и о своей Тимофеевне:…Никто никогда Стишке так безоглядно не прощал. Откуда что в ней бралось? Какой душой она владела?» Как много добрых слов хотелось герою сказать родной матери, корит он себя: « …На что я надеялся, почему не приобнял маму, не сказал ей сыновних слов…? Так и осталась мама сорокалетней, заработавшей кое-чего на несколько своих и чужих жизней, не знавшей покоя». А образ тетки Нюры? Он достоин кисти живописца: …Но глаза-то, глаза-то тетки Нюры! Вот и сейчас думаю: очень красивая была тетка Нюра –статной русской красотой. Какие у нее были ласковые, мягкие ладони. До самой середки прожигало! Поражают карнышевские женские образы неиссякаемой силой духа и силой веры. «Бабушка ходила босиком в Кяхтинскую церковь из Кабанска. Замолить чьи-то грехи, кого-то помянуть, кого-то возлюбить – бабушкино святое дело. Кто одаривал бабушку столь неиссякаемой душой? Раз жалеет нас бабушка, надо изо всех сил стараться жить…» Много ярких воспоминаний хранится в родовой памяти писателя. Он помнит, как его, совсем маленького ребенка, двух с половиной лет, ласкала бабушка Устинья Ивановна: …Ладонь кажется шелковой. Замираешь от пяток до макушки от блаженства, обласканный ею…» Опять о ладонях. Не случайно их так живописует автор. Испокон веков открытая ладонь символизировала собой миролюбие и доброжелательство. Ладонь-ладошка-ладушки-лад, а, значит, – мир и согласие.
Писатель в небольших рассказах поднимает большие, извечные темы войны и мира, человека и природы, народа и власти и т.д. Трогает нас трагедия Самохи. Его трагедия – это жестокий след войны….Уже взрослым человеком, немало пожившим на земле, я узнал, что Самоха был отравлен нервными газами в первую мировую… Отравила многим героям жизнь и вторая мировая. Сломала война жизнь и Кедроле, но не смогла-таки сломать его душу. Не нужна никому ненавистная война. Зачем зарождаться жизни на земле, если кто-то по своей прихоти может посягнуть на нее? Сколько искалечила здоровья, жизней, судеб война, объявленная властьтворящими своему народу в поисках пресловутых врагов? Скольких она изморила голодом, сгноила заживо в лагерях? «Всегда мечтаем о чем-то лучшем. До сих пор жаль себя того давнего. Как же нас не умели беречь. Или не хотели?» («Арестованная уха») «Почему же в России столько голодных? Или постоянно снится один и тот же дурной сон?» («Гринька Симухин») «Только дураков и дурочек Бог миловал. Они не мешали ликующему пустозвонству («Крестная») «Бессмыслица жестокая творилась. Никто остановить ее не мог» («Смерть деревеньки») «Через три года у артели изъяли пашни и передали колхозу, затем подрезали рыбалку» («Убиенные и умерщвленные»). Это ли не война? Даже ужаснее всякой другой войны. Ибо, что может быть страшнее того, если родитель губит свое чадо?
Приходит в этот мир маленький человек и смотрит на все распахнутым взглядом. Он ли – не центр Вселенной? Отчего он должен превратиться в раба, в насекомое? Он, посланный сюда быть человеком. По какому праву? Не бывает маленького человека. Есть просто человек. Маленькому герою из рассказа «Пурга на мысе Бакланьем» на Байкале неспроста показалось вдруг, что он сам и есть центр Вселенной. Не случаен выбор автором такого стилистического приема как звучание мистической ноты. Возникает ассоциация с пушкинскими «Бесами» по тому, как задается мотив кружения, усиливающийся экспрессией слов, звуков: «И та бесконечная ледяная дорога, несшая меня резвыми ногами нашего Карьки к зимовью на Бакланьем, раздвигала мою вселенную шестилетнего человека до огромного необъятного мира, в котором я как бы являлся маленьким центром – разве не дар судьбы? И все вращалось вокруг меня…» Таинственность, мистичность, присутствующие в этом рассказе, опосредованно напоминают нам о скрытых от нас тайнах Вселенной, о тайнах зарождения человеческой души, которые разгадать нам не дано, а значит, и вершить судьбы, равно как и властвовать над самой Природой – нам тоже не дано.
Писатель с душевным трепетом относится ко всему, что его окружает, жалеет родную землю, побережье священного моря, сам Байкал, изрубленный лес… Вот и лес отошел, отступил от Оймура… Насколько еще дальше отойдет лес от моего Оймура завтра, послезавтра? Чем иным я отплачу своему морю?» («Место обитания») Не сетует, а кричит его изболевшаяся душа: «Замыкается родовая память. Короче и короче делается она и оттого мелеет душа. И никому не остановить этот неумолимый ход….» («Грустно и светло»)
Отчего не веет от этих слов безысходностью? Кажется, теплится, живет в душе писателя-трибуна вера в человека, в читателей. Стоит только нам вслушаться в чуткое слово большого мастера да призадуматься немного: так ли мы живем? Последовать его примеру – воскресить в себе родовую память. Может, спасемся… О своем спасении автор говорит: … Живу их жизнью, продлевает Господь за память… Вспоминаются схожие мысли, высказанные однажды Солженицыным: «Я живу жизнью тех, безвинноубиенных, ибо говорю за них, за то Господь меня спас от смерти».
Пусть, как можно больше людей, отыщет путь к «Чудодею», да сотворится чудо спасения наших душ…
23 июня 2003 г.